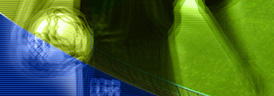Дневник девочки, без которой мы доживаем ее век
Есть на Никольской улице архив, найденный на помойке. Собачник гулял в Замоскворечье и подобрал дамскую сумочку -- потертый ридикюль, а в нем очки без стекол, перо № 86 и пачка писем с первой мировой... Похоронки, фотографии, открытки, коммунальные счета, трамвайные билеты -- в московском «Народном архиве» хранится то, от чего отказываются архивы государственные. Частные истории никому не известных людей. Тут и попался мне дневник Наташи Ходот, умершей от туберкулеза в 1923 году. Две тетрадки, одна в красном, другая в черном переплете, с засушенной фиалкой меж страниц.
25 декабря 1920 года. Проснулась это я сегодня. Отодвинула занавеску на окне, гляжу -- что за чудо: светло на дворе, солнышко... а небо -- голубое, голубое, да облачка белые, прозрачные так и мчатся по небу; а крыши все черные, ни капельки снегу на них нету, оказывается, за ночь стаял весь; и на улице снега мало, только скользко очень и воды много. Все дни был мороз, а под самое Рождество пришла вьюга и принесла один градус тепла... А елка-то у нас все-таки есть! Елку мне подарила Оля Степанова, вероятно, за то, что я ей игрушки дала, на елку. Я свою уже украсила, свечи мне купили Мария Ефимовна и Александр Яковлевич в церкви, т.к. теперь настоящих елочных и даже простых стеариновых нигде достать нельзя...
В те дни не было не только настоящих елочных свечей, но и чернил (чем пользовалась Наташа -- перекисью марганца? свекольным соком?). Прошел век -- страницы вылиняли, обесцветились. О значении иных фраз можно лишь догадываться. Век прошел. Три четверти века...
Без нее?
Старинная добропорядочная семья (как по нотам можно прочесть мелодию булгаковской «Белой гвардии»).
Наташин папа, Владимир Кузьмич Ходот -- петергофская знаменитость. Вот он, на фотографии начала века: элегантный, во фраке, в лакированных остроносых башмаках -- сейчас, кажется, подъедет коляска, доктор махнет детям рукой и покатит к больному.

В 1912 году тряскую коляску заменит шестиместный лимузин «Пежо» -- подарок богатого пациента. Много лет спустя брат Наташи Дима вспомнит, что этот «Пежо» помог усвоить закон инерции: умение спрыгивать на ходу и цепляться за поручни облегчило жизнь в Стране переполненных трамваев.
Но это позже. А пока они жили в совсем другой стране. Стол в гостиной. Часы, уютная лампа в кабинете, пахнущем старыми журналами. Счастливая семья, все в сборе: мама, папа, девочки и мальчики, няня-француженка и молоденькая гувернантка фрейлейн Эдда...

Наташин дневник отделяют от семейной идиллии несколько лет -- и другая эпоха. В 16-м году «мотор» доктора Ходота конфискуют для нужд армии. Через год умрет от нефрита Наташин старший брат Юра, студент Политехнического. В 19-м у детей от голода распухнут десны, их увезут в Киев, к бабушке. Там, после утреннего чаепития, красноармеец будет чистить маузер и случайно застрелит Наташину маму.
В 21-м доктор женится на вдове бывшего пациента, директора страхового общества «Саламандра» Шумилова. Там -- схожая судьба: один сын погиб в Ледовом походе Белой армии, другой пропал без вести, особняк в Новом Петергофе сгорел. Лидия Владимировна и две ее дочки переезжают в докторский дом («Мы теперь с Ниной и Лидой будем жить в одной комнате. Я очень счастлива...»).
Шут его знает какое число
Дневник -- остановленное, вечно длящееся мгновение. Как схваченная льдом струя петергофского фонтана. Как ель, на которой любила сидеть Наташа, разглядывая сверстников, какие они оттуда все маленькие. Всех-всех она подробно и в дневнике описывает: глаза, нос, характер, улыбка, кто что сказал и как повел себя.
Ель -- жива. Она одна вспоминает то и так, как вспоминала бы Наташа. Сверстницы и сводные сестры -- не в счет.
18 мая 1921 года, суббота. Уже давно прошел светлый праздник Пасхи, скоро Вознесение и Троица. Уже весна отошла в сторону и уступила место знойному лету ; уже давно отцвела черемуха, отцветает сирень и цветет своими розовыми цветочками жимолость...
Вчера мы играли в лапту: мне нужно было бить, а моя подруга, которая была впереди меня, размахнулась да ударила меня по губам со всего размаха лаптой; я пошатнулась от удара, приложила платок к губам. Дальше не помню, что было: в голове помутилось...

Через год после того, как туберкулез оборвет жизнь Наташи и старшей дочки Лидии Владимировны -- Нины, новая семья доктора распадется. Младшая Лида переживет Наташу на семьдесят лет. Окончив школу, дочка директора страхового общества устроится водопроводчиком, научится понимать трехэтажный язык пролетариата. В тридцать втором выйдет замуж за флаг-штурмана Юрия Мягкова, который вскоре погибнет со своим экипажем дирижабля, отправленного в Арктику спасать челюскинскую экспедицию. Последующие полвека Лида и ее сын Анатолий по прозвищу Лика проживут в коммуналке, в счастливой советской нищете. Лика окончит институт, будет работать в «почтовом ящике», а в свободное время -- мастерить люстры из водочных бутылок. В конце жизни у Лидии Владимировны подойдет очередь на отдельную квартиру. Но вскоре после новоселья Лику хватит инфаркт, от которого он скончается в сорок восемь лет, а сама она поскользнется на пути в продмаг и сломает шейку бедра и тоже умрет -- во сне, -- всеми забытая верная вдова легендарного флаг-штурмана, про гибель которого ни слова в Большой советской энциклопедии...
Ничего этого Наташа не узнает.
Ей тринадцать. Недавно ездила в Петроград и видела «Юрочку, бабушку, дядю, тетю и всех милых родных...» У Ходотов много родственников, в чьих жилах щедро перемешана русская, украинская, еврейская кровь. Дальний пращур -- полковник Запорожской Сечи. Прадед Потап -- черниговский помещик, владевший, согласно семейной хронике, одной крепостной душой, вместе с которой пахал и сеял. Дед Кузьма Потапович, имея превосходный голос и играя на сцене, служил секретарем черниговского предводителя дворянства и был женат на Любови Петровне Улезко -- сестре будущего профессора-микробиолога.
Четверг, число... шут его знает какое число... Как веселое лицо может подействовать! Полтора часа перед тем, как ехать к зубному врачу, настроение было ужасное: встретила похороны, задумалась о покойниках, загробной жизни и тому подобных вещах. С тем же мрачным чувством поехала к врачу. Встретила Хведынича -- одного мальчика из нашего класса: едет, по-видимому, с отцом, лицо веселое, шаловливое, как всегда, смотрит на меня и смеется. И отец его, хотя меня не знает, а смотрит, смеется и говорит: «Ах, здравствуйте, здравствуйте, дорогая барышня!»..

Жизнь деда Кузьмы Потаповича была самая обыкновенная. Утром неспешно шел в присутствие, к двум часам возвращался к обеду, в четыре ложился на диван, чтобы вместе с соседями по дому, отцом Паисием и фотографом Гольдфайном, разделить «по часику на брата». Отношения с религией у него тоже были обыденные. Он рассказывал с лукавством, как отец Паисий во время одной проповеди так расписал Страшный Суд, что бабы-прихожанки громко зарыдали. Батюшка остановился, поглядел на свою паству и успокоил: «Не плачьте, бабоньки, може, це усе ще и брехня!»
«Счастливая фамилия, -- изрек в начале века, посетив родственников, четырехлетний Наташин брат Дима, -- сколько у них в саду смородины!..»
Жизнь перевернулась с ног на голову, а в Наташином дневнике -- конец первой четверти. Под боком революционного Петрограда -- петергофский, не потопленный еще островок с дворцами и гимназией императора Александра II. Вот какое открытие: мы-то думаем, что гимназий тогда уже не было. «Книги -- бич знания», «взвейтесь кострами, синие ночи»... Единая трудовая школа. По циркулярам Наркомпроса так оно и было, но жизнь сохраняла инерцию.
Наташа застала закат этой удивительной гимназии, уже после нее названной именем какого-то революционера. Тогда все школы, и не только школы, кем-нибудь называли, но одновременно продолжали преподавать этику, учили шаркать ногой и снимать фуражку. Потом школа стала обычной сталинской десятилеткой. В хрущевские времена ее пытались сориентировать на завод, но из этого ничего не вышло. Так до перестройки и дожила английская гимназия, по духу самая советская. Но что-то от былой атмосферы все-таки в ней сохранилось. В мозаике, обнаруженной недавно под полами, в высоких окнах классов, в просторных гулких коридорах... Дело не в том, что здесь снова учат латынь, греческий, закон Божий, что опять здесь -- музыка и театр. «Просто, -- сказала мне библиотекарь Светлана Владимировна, -- нам хорошо тут. Мы все друг в друга влюблены...»
Рано темнело на Пролетной улице. Дом -- в самом ее конце, примыкает к Дворцовой. По ней двигалась, змеясь, из Кронштадта в Петроград длинная колонна матросов, оставляя после себя следы пороха и мочи. Дети собирали патроны и устраивали фейерверки. Это, что ли, все, что нам осталось от тех дней?
Среда, 7 февраля 1923 г. Ну уж сегодня в гимназии приключений было!!! Прошел спектакль, говорят, всех лучше играла я; и наслушалась же я похвал и от подружек, и от преподавателей, и от родных. Девочки меня чуть не задушили в объятиях... Кажется, в меня влюблен Б., но он мне не нравится, и я ему это дала понять, чтобы он не заходил слишком далеко... Какое глупое слово «влюблен»...

Две маленькие фотокарточки, память о двух человеческих душах, близких Наташе, -- об Ольге Борисовне и Екатерине Петровне. Ольга Борисовна Шевелева, правнучка автора «Истории русской словесности», академика, -- в 20-е годы работала инспектором Ленинградской консерватории. Ее подруга, Екатерина Петровна Янчуковская, помогала в канцелярских делах и заведовала общим домашним хозяйством. Она старалась хорошо кормить Ольгу Борисовну, считая, что отвечает за ее жизнь не только перед консерваторией, но и перед Россией. Ольга Борисовна смаковала пшенную кашу на воде и котлету из мороженой картошки, приговаривая: «Катишечка, да ведь это превкусно!»

В их аскетически чистой квартире собирался круг «реликтовых интеллигентов». Приходил нежно преданный хозяйке дома Владимир Васильевич Максимов -- самый очаровательный актер молодого русского кино, партнер Веры Холодной. Юные Володя Софроницкий и Митя Шостакович. Старшая классная дама хореографического училища Ольга Федоровна Зигрист, строгая наставница маленькой балерины Улановой.
Ольга Борисовна и Екатерина Петровна пережили Наташу на двадцать лет и ушли в мир иной в начале блокады, снова среди метели. Им досталась счастливая жизнь, они встречали с широко открытыми глазами каждого, ожидая в ответ от него добрых слов и благородных поступков. О другом не скажешь иначе как «сволочь», а Ольга Борисовна, кутаясь в платок, произносила: «Swollow, swollow, little swollow!» -- смягчая брань времени музыкой Оскара Уайльда...
Дневник, похожий на сентиментальный роман:
«Пятница, 23 марта 1923 года. В воскресенье, как раз Вербное, мне будет четырнадцать. Сегодня шли домой из гимназии, а мальчики следовали за нами и кидались снегом, да так больно! Если бы не вступился милый румяный булочник в белом фартуке и корзиной с булками... Такой, правда, славный!
Боже мой! Весна, весна, что может быть лучше... Я сегодня была одна среди молодой природы, сзади, за кустами сирени, под обрывом, сияло море, еще холодное, нерастаявшее... Здесь так тихо, и весь свет представляется совсем другим. Жизнь и смерть, красота и уродство, природа и искусство -- все путается, смешивается, сходится и расходится. Мысли о жизни, свете и красоте сменяются мрачными и вместе с тем грустно-приятными мыслями о смерти. Ярко представляю себе свою смерть, мое положение тела в этом мире и души в другом, внезапно перехожу к горю моих родных и близких и дойдя до горя папы и класса, я увлекаюсь до того, что слезы текут у меня из глаз и мне жаль себя и других...»
Дима меня любит, Ирина тоже, фрейлейн любит, папа меня очень, очень любит, он, я слышала, говорит, что я хорошая девочка, умная, добрая и сердечная. В гимназии меня подруги любят, мальчики относятся с уважением, преподаватели выделяют -- чего еще мне надо? Как эти строчки полны тщеславия и хвастовства, но что поделаешь, уж такова я сама, что в душе, то и в тетрадке. Не хватает мне настоящего хорошего друга...
Сейчас уже становится совсем темно, и я не вижу даже, что пишу.

Откуда у нее -- юной, веселой, счастливой, любимой -- прозрение того, что так скоро случится? Положение тела в этом мире, где она будет лежать в своей любимой комнате, на столе, в белом платье, детских носочках и башмачках с протертыми до дыр подошвами. И горе близких -- тех, о ком вспоминаем сегодня благодаря ей, так уж бывает. После Наташиной смерти доктору Ходоту предстоит еще очень долгая жизнь. Дети вырастут и разъедутся, сам он переберется в Ленинград, в отдел здравоохранения Московского района, где будет работать детским доктором. До глубокой старости, до конца -- детским. Создаст детскую консультацию, детскую поликлинику. И блокаду переживет. Ему предложат эвакуироваться, он откажется. Каждое утро, все 900 дней, будет отправляться в долгий путь по заваленным льдом и битым кирпичом улицам, взбираться по бесконечным крутым лестницам, чтобы помочь своим маленьким пациентам. Доктор Ходот не любил громких фраз. Как и его сын, которого я спрошу еще через пятьдесят лет: «А как отец умудрился остаться жив?» «А он, -- ответит выросший и ставший стариком Дима, Владимир Владимирович, -- шел по той стороне улицы, где меньше бомбили».
Это -- не только о том, блокадном времени, а вообще обо всем нашем веке. О тех, кто умудрился уцелеть...

Пора признаться, читатель: вся эта история написана не мной. Я ее только пересказал, чуть подправив рукописные листы Владимира Владимировича Ходота, который оставил память о семье. Это не я, это он обнаружил в семейном архиве дневник своей младшей, совсем маленькой, если смотреть с хребта времен, сестренки и, разглядывая под увеличительным стеклом вылинявшие строчки, разобрал и переписал от начала до конца ее дневник. И потом передал из архива семейного -- в Народный.
Зачем? Для кого? Владимиру Владимировичу за девяносто. Профессор, доктор наук. Его всегда тянуло к русской словесности, но, как говорит сам, чаша сия, слава Богу, миновала. Учился немного в консерватории, потом в университете. В 25-м году Ленинградский университет был чем-то вроде молодежного клуба, в котором слонялись демобилизованные красноармейцы, сыновья нэпманов в замшевых гетрах и модных ботинках «шимми», мордастенькие комсомолки в повязанных чалмой платочках и дочки благоденствующих зубных врачей, пахнущие духами «Шанель».
Среда, 11 апреля 1923 г. Как весело суетиться, бегая от одного конца дома к другому... В большой гостиной разложили во всю комнату красивый ковер с розами, чехлы с мебели сняты, зеркала и картины блестят; в камине горит огонь, отражаясь на статуэтках и безделушках, она приняла совсем жилой вид. Время незаметно проходит до вечера, начинаем накрывать пасхальный стол. Суета, беготня, хлопоты...

«О чем мы говорили? -- вспоминает Владимир Владимирович. -- О возможностях расширения Вселенной. О гениальном Яхонтове, читавшем стихи Пушкина времен Михайловской ссылки в собачьем наморднике. О студенческой столовке, где можно было пообедать за 20 копеек, а в случае их отсутствия -- наесться разложенного на щербатых тарелках хлеба с горчицею и солью...» В числе товарищей Димы был и Семен Гейченко, впоследствии зек, инвалид войны, знаменитый хранитель Пушкинского заповедника.
В этой компании могла оказаться и Наташа. Распевала бы, как все, гимн на мотив популярной пионерской песенки: «Мы набили свое око, мы набили свое око, мы набили свое око классицизмом и барокко. Во! И боле ничего!». Время быстро менялось. Это было не то время, в котором жила Наташа. Из гаражей все чаще выезжали черные «воронки». Гейченко, вспоминает Владимир Владимирович, замкнулся, стал прикладываться к рюмке и ораторствовать в пуховую подушку, за закрытой дверью, благо у него появился собутыльник и верный слушатель -- дворник. Склонив голову на грудь, дворник внимал вдохновенным речам о сатанинской улыбке Фуше и крушении кантианства, изредка вставляя глуховатым голосом: «Стал-быть-так», «Оно конешно», «Ишь ты!». После третьей беседы дворник пошел куда следует и «стукнул», получив от органов за бдительность пакетик с пятью яйцами, тремя яблоками и пачкой папирос «Казбек». «Бразильского шпиона» Гейченко, будущего Героя Соцтруда, взяли в вестибюле библиотеки имени Салтыкова-Щедрина...
Владимир Владимирович Ходот выжил, не попал в мясорубку. Упрямая беспартийность не помешала ему даже представить советскую науку в странах социалистической демократии (чему свидетельством его чудесные записки времен медового месяца советско-китайской дружбы). Всю жизнь скрывал свое литературное призвание, писал в стол, в котором скопились повести и рассказы -- теперь они, как и дневник Наташи, в «Народном архиве».
В нашем народном архиве -- без кавычек и точного адреса -- все рядом: и тетрадка с засушенной меж страниц фиалкой, и почти салтыково-щедринская история посадки основателя Пушкинского заповедника...
Продумать до конца
Не знаю, зачем я поехал в старый Петергоф. Он все такой же, как и при Наташе. Величественный вокзал. Те же, прежние дубовые скамьи в зале ожидания. Кажется, сейчас подойдет поезд Санкт-Петербург -- Ораниенбаум, из которого выпорхнет стайка гимназистов в светло-серых шинелях и синих фуражках с вензелем Александра II. И гимназистки в коричневых платьях и белых фартуках. Все можно разыскать. Храм, в который она ходила, ее гимназию.
Нет только ее дома на тихой Пролетной улице. На его месте -- кустарник. Тишина -- как в воронке после взрыва.
Суббота, 23 марта 1923 г. Сейчас пришли из церкви. Там было сначала полутемно. Горели тускло лампадки и монотонно читал псаломщик. Тихо и по-постному торжественно-грустно. Только когда запели «Воскресение Твое Христос Боже наш», дали электричество... Все ожило: зашевелились, засморкались, начали кашлять... Но мне больше нравилось в полутьме: так искренней молиться...

«Скажите, кому это нужно? -- один-единственный раз вдруг повысился голос Владимира Владимировича. -- Кому это нужно -- о чем с вами говорим, над чем трудимся? Кто умеет и хочет сейчас читать? Кто может оценить тонкость фраз, музыкальность тона? Трепет живой человеческой души?.. Или опять -- как уже было в нашем веке -- узкий круг уцелевших, переживших свалившееся на нас варварство?»
«Проблэма, -- как по-старомодному выражается последний из Ходотов. -- Надо бы ее продумать до конца».
У него это часто проскакивает: «разобраться до конца», «домыслить до конца».
К концу века нами составлен список палачей и жертв. Тех, кто хотел крови и кто ее не желал, зато и пролил сам. А тут -- абсолютно целая, до конца прямая, не сломленная, совершенно аполитичная судьба. Принадлежит она нашему веку -- или нет? Вот два мерила, две чаши весов. На одной -- монументы, скрежет железа, грохот взорванных дворцов и проложенных путей, а на другой -- жалкая фиалка, засушенная в тетрадке. И каков итог, и что перевешивает в итоге: скрежет железа или дыхание увядшего цветка?
Вчера вечером после дождя ходили гулять в парк. Я нашла куст черемухи, полезла вниз, вдруг зацепилась за корень, да в самую крапиву -- бух! Вся обожглась -- ноги, руки, лицо. А все-таки набрала черемухи...

В «Народном архиве», неподалеку от Кремля, собраны не «Дела». «Дело» -- это что-то другое; здесь -- жизнь. Можно сказать -- гербарий жизни. Бесценный, благоуханный сей архив вот-вот закроют, уже и на две комнатушки не хватает средств.
Что сказать людям? Не героям, не жертвам -- обыкновенным, безымянным, никому не известным, которые идут и идут в «Народный архив» -- в единственное, может быть, место в стране, где они еще кому-то нужны?
Нас так долго учили: нельзя быть свободным от общества, живя в нем. Кто не с нами -- тот против. Нельзя стоять над схваткой. А оказывается, ничего подобного. Вот мы стоим на Пролетной улице в Петергофе и видим -- все в конце концов пролетает. Все -- прах. Но выжили, вышли с честью из ада как раз те, кто был вне схватки. Кто выбрал на своем человеческом пути ту сторону улицы, где меньше бомбят...
А там, в конце пути, -- не плаха, не постамент, но один-единственный цветок фиалки, «засохший, безуханный». И пара слов о кусте черемухи в крапиве.
Анатолий ЦЫРУЛЬНИКОВВ оформлении использованы фото из архива «Огонька», открытки из коллекции И. Перкаса и фондов Музея игрушки